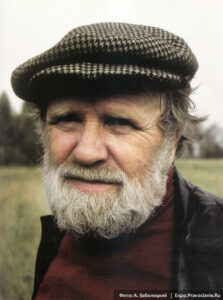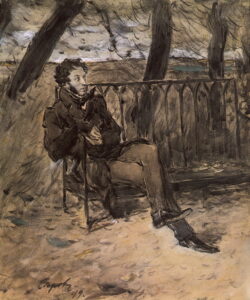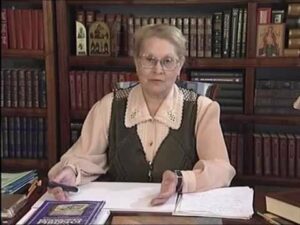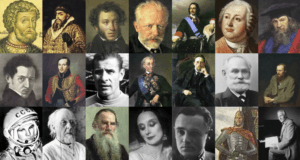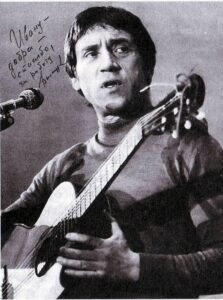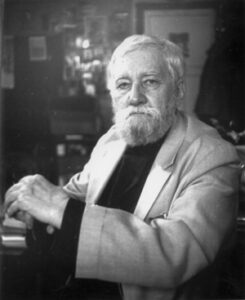О моем главном наставнике и воспитателе
Давно уже хочу написать эту заметку. Она и восторженная и грустная. Хочу рассказать о своём главном наставнике и воспитателе. Восторженная заметка потому, что у меня был такой изумительный, прекрасный наставник и воспитатель, какого ещё поискать. Сегодня таких точно нет!
А грустная заметка потому, что этого наставника уже нет, хотя казалось, что он будет вечным. Прожил мой наставник на этом свете 70 лет. А звали его Всесоюзное радио.